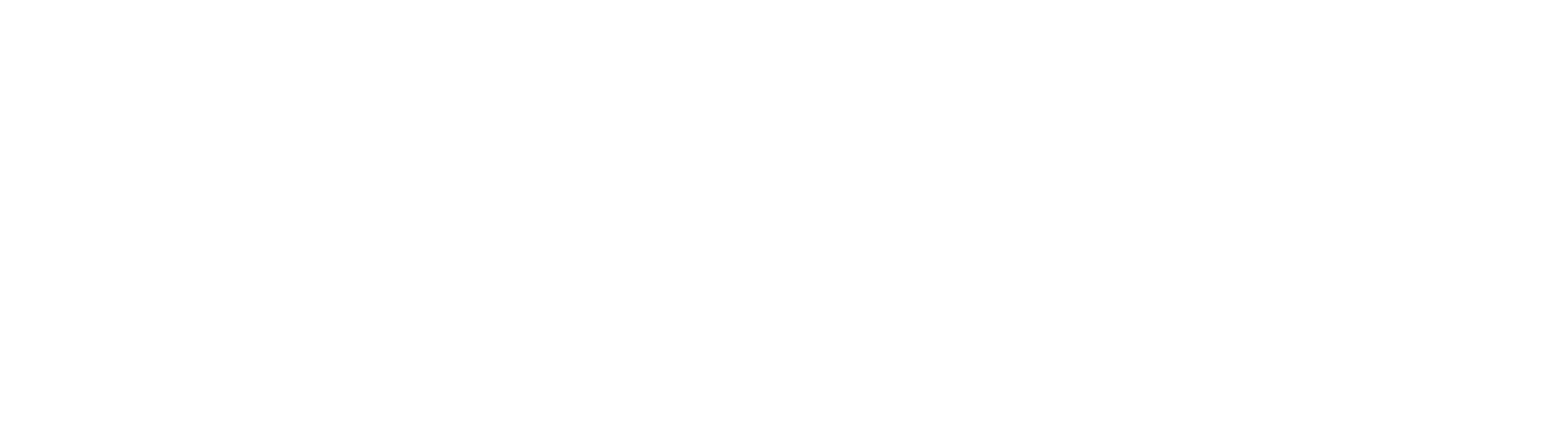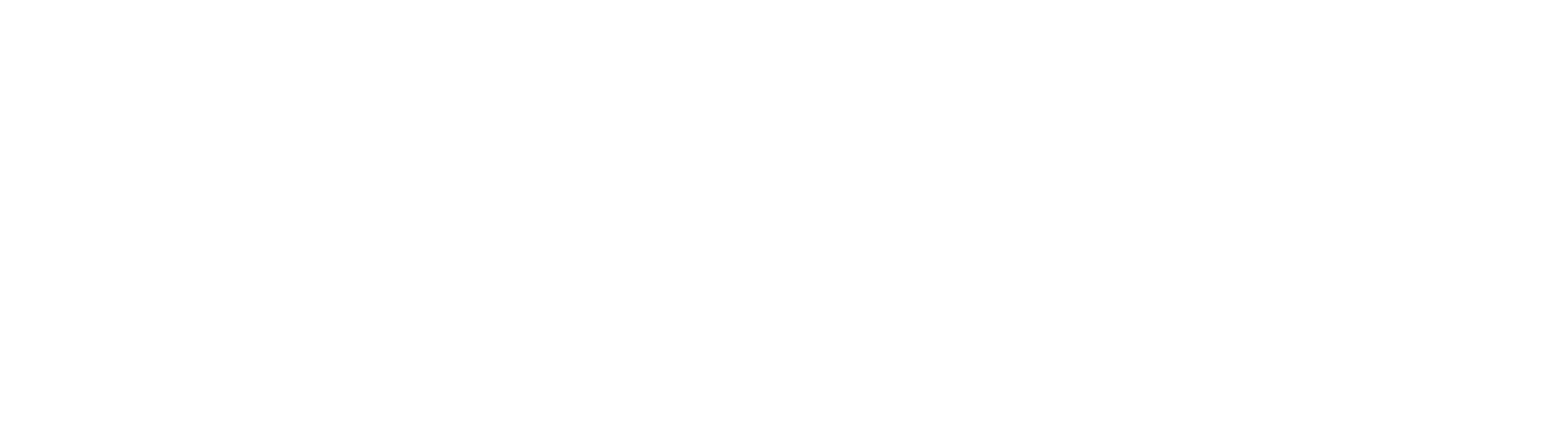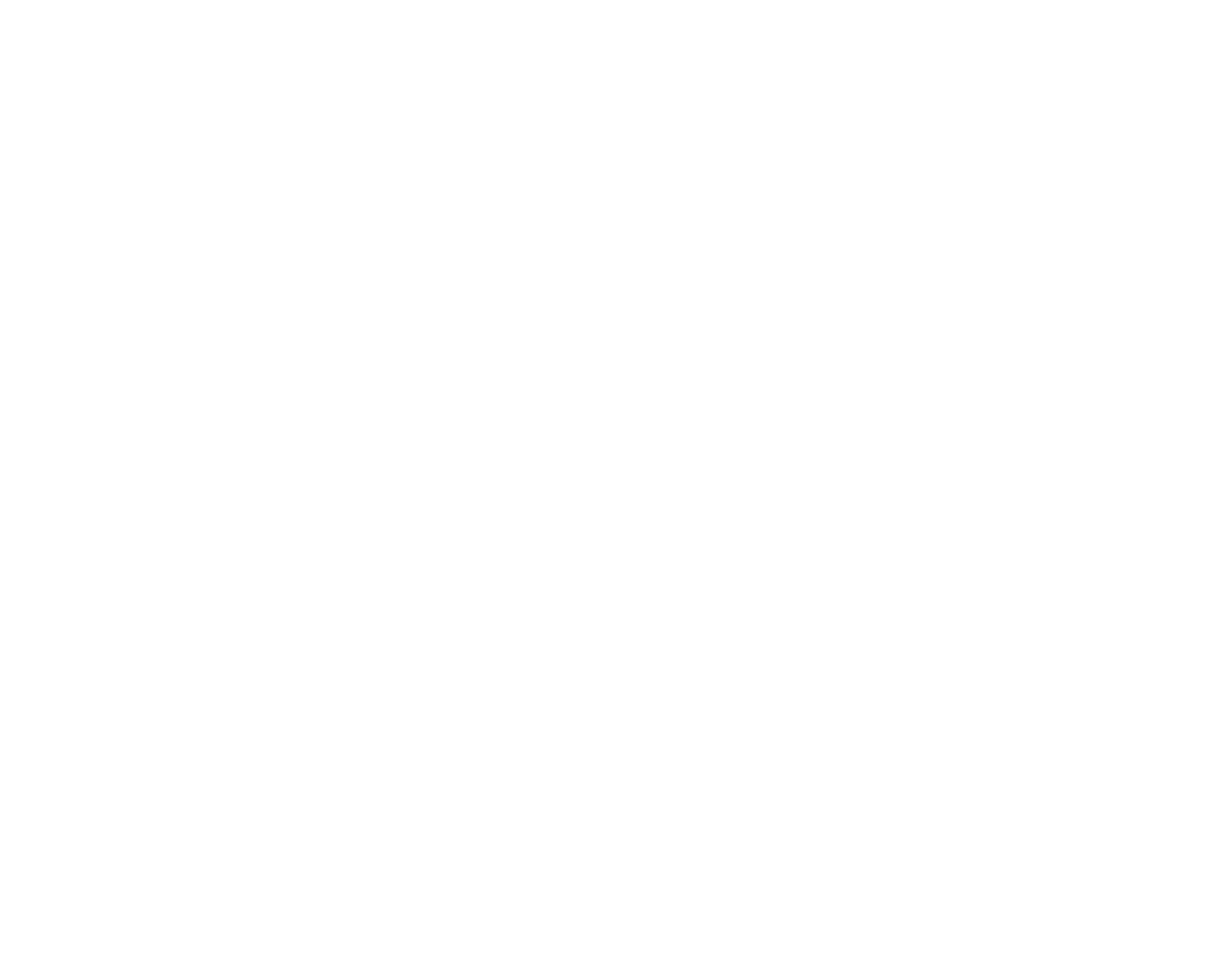И.К.: Соцсети всё больше влияют на музыку, это общемировая тенденция. Вся суть концентрируется в первых 15 секундах трека, которые могут удачно залететь в коротких видео. Сейчас чартовая музыка вся заточена под тиктоки и рилзы. С одной стороны, это, наверное, неплохо, но с другой, глядя на ситуацию, понимаешь, что какую-то грандиозную музыку мы в определенной степени потеряли навсегда. После реюниона Oasis я осознал, что такая музыка была возможна только в прошлом, а новых таких хитов уже не будет.
К сожалению, сейчас главный медиум, который диктует определённые правила производства и восприятия контента — соцсети. Тот же
«Sigma Boy» или
песня про бобра: я никогда и подумать не мог, что такие треки будут привлекать к себе столько внимания. От
«Sigma Boy» невозможно было скрыться: его покупали в рекламу, у артисток вышла куча интервью в каждом YouTube-шоу. Просто тотальное присутствие. Я думаю, за последнюю пару лет такие истории очень сильно изменили подход артистов к работе над музыкой.
Д.Д.: Согласен на 100%. Быстрое потребление контента порождает быстрое производство и, как следствие, быстрое забвение. Очень часто артисты остаются авторами одного хита. Мне кажется, шансы на то, что у одного и того же исполнителя так выстрелят два хита подряд, микроскопическая.
Всё реже, у артистов получается планомерный рост, как у того же «Сироткина» или Zoloto, которые постепенно наращивали аудиторию и популярность, а не выстреливали с TikTok-мемами. Мне такой подход ближе. Сейчас в фильмах и сериалах всем нужно, как правило, три формата треков: старый хит, который все обязательно знают, трек из TikTok, залетевший в чарты, и оригинальная песня. А хочется использовать песни, которые больше подходят материалу в рамках синхронизации, чтобы режиссёры хотели более индивидуального подхода.
И.К.: Тиктоки и рилзы с отдельными виральными треками изменили музыку, так же, как когда-то радио, а потом телевидение, а потом формат mp3 и торренты.
Д.Д.: Интересно, что в принципе эра поп-музыки начиналась с синглов. Сначала были 45-ки, потом 7-дюймовки, дискографию считали именно по синглам. Потом наступила эра альбомов, а с появлением стримингов и соцсетей синглы снова вышли на первое место.
И.К.: Еще одна особенность сегодняшней индустрии — число прослушиваний популярного трека может совсем не отражать полной картины популярности артиста. Например, у него может быть 5 миллионов прослушиваний. На первый взгляд — огромная цифра. Но при этом о нём может почти никто не знать, и это удивляет.
Мы привыкли, что у больших артистов в стримингах десятки миллионов слушателей. И когда рядом появляются музыканты, чей трек залетел в соцсетях, многие сразу начинают воспринимать их как суперзвёзд, хотя в реальности они могут быть совсем не известны широкой аудитории. Одна успешная песня не делает карьеру. Артисту нужно постоянно работать над своим именем, над брендом, над тем, чтобы оставаться на виду.
Д.Д.: Еще бывает, что у артиста в момент взлета песня, условно говоря, 5 миллионов слушателей в месяц в стриминге, а через несколько месяцев уже 1,5 миллиона. Думаю, это сильно бьет по авторам и их дальнейшему творчеству: они все силы тратят на то, чтобы перебить или хотя бы повторить прошлый успех. Трудно понять, как это количество слушателей коррелирует с реальной аудиторией. Когда считались продажи физических носителей, все было очевидно: у тебя купили 5 миллионов пластинок и эти пластинки так и остались у слушателей, с ними ничего не произошло. А прослушивания в стримингах такой уверенности не дают, и в итоге артисты не могут адекватно оценить уровень популярности.